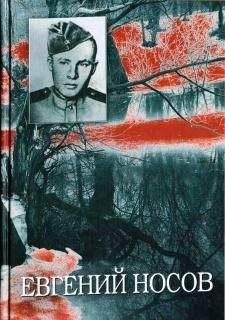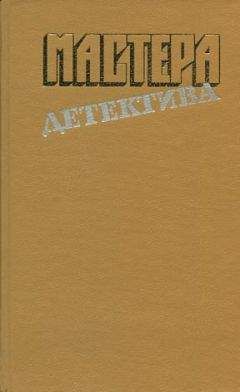Опосля и мы сбегали на деревню со своим только что полученным вещевым довольствием… В третьей бане мылись и стегались тоже не лыком шитые — те себе «Катюшу» хором врезали… {92} Тут в самый раз заглянул батальонный политрук Кукареко, тоже нагой и в листьях, прикрывает от бойцов причинное место, а сам пробует давить на тормоза: дескать, полегче, товарищи, чтоб не зашкаливало, а то машины ждут ремонту… А ребята ему: «Все будет, как в часиках, товарищ старший лейтенант Завяжи нам глаза, дак мы и вслепую все сведем и составим».
И пошли экипажники один за другим вылетать из дверей и заныривать в чистейшие, первозданные сугробы: «И-эх… Танки наши быстры…»
Эдак обрадели мы от пару и жару, что и не узрели, как меж тучек промелькнул ихний «фока» — раз да другой — сперва над деревней, а потом и над леском, где мы раскулачили свои танки. После об этом нам местный парнишка рассказывал, уже приученный караулить небо.
Ушлый «фока», должно, все до тонкостей разглядел и раскумекал. Дымы над банями — это не иначе как праздник в деревне. Однако по свежей тропе, протоптанной из лесу к баням, понял «фока», что это вовсе не русский праздник с куличами и самоварами, а обыкновенная солдатская помывка. Вон и сами солдаты забегали по тропе с белыми подштанниками под мышками. Тут «фока» и сообразил, что ежели на одном конце тропы — бани, то на другом должна быть воинская часть. Оставалось только разузнать — какая? И пилот еще раз отклонил рукоятку штурвала и залег в плавный вираж над лесом. «Ага, вон в чем дело,— догадался он,— лесная поляна вся в гусеничных следах, и еловые ветки почему-то свалены в кучи. Русский Новый год давно прошел. А кучи-то недавние: на концах — свежие порубки. Тут и гадать нечего, какие игрушки под ветками спрятаны. А еще недавно три легковушки из этого леса выехали…» Кто же по передовой на шик-машинах катается? И глупой немецкой козе понятно — генералы (по-русски комбриги, комдивы)! Пилот даже подпрыгнул на радостях в узкой гробовой кабине своего «фоккера» и тут же надавил на пупку радиосвязи. Так, небось, и было,— заключил Петрован.— А то б откуда было взяться сразу двум тройкам восемьдесят седьмых «юнкеров»? Один из них откололся и сыпанул по баням, а остальные шершнями набросились на ельник.
Крайнюю баню раскатало по бревнышкам, даже калильные камни размело, как горох. Правда, та баня была пуста, ее топили для Кукареки, но он вышел по своим делам, а потому никого не ушибло, не зацепило, только галифе повесило на березу. Но по черным дымам было видно, что в лесу «юнкера» наделали тарараму. Бежали мы туда кто в чем — в не своих бушлатах, в перепутанных валенках, иные недобритые, с мылом на висках… Вот тебе и «броня крепка»! Снятые бронелисты позакидало аж на болото, в двух машинах горели раскрытые моторы. Хорошо, что мы свой бэ-семнадцатый на деревню свезли, а то неизвестно, как бы еще обошлось: кругом дерева горели, роняли огненную хвою, тлеющие ветки…
Людей тоже потеряли: двух ремонтников — уже помытых, набаненных — наповал, а третьему — ногу по самое колено…
А комфронта перед строем говорил: «Днями, помывшись, будем брать Руссу…»
…На дворе раздался заполошный крик кочета: видать, Евдоха, дождавшись-таки возвращения блудного петуха, пустилась за ним по дворовым заулкам — победную лапшу готовить. «Што ты? Што ты? — высокоголосо возмущался петух.— Я ничево такова! Ничево такова!..»
Петрован, оборвав рассказ, настороженно вертел головой, водил ею за криком, потом привстал с табуретки:
— Пойду скажу, чтоб не ловила…Я к тебе на минутку а она вон на весь аршин…
— Девятое мая,— напомнил Герасим.— Рази не аршин? Прожитое мерять…
— Я все ж выйду, скажу…— окончательно поднялся Петрован.
Когда он появился на крыльце, Евдоха уже стояла возле поленничной плахи с петухом под мышкой и капустным секачом в руке. Петух в крупно связанной серой одежке, с долгими желтыми ногами и бордовым зубчатым гребнем, упавшим на правую бровь, немигающе вызрился на Петрована большим округлым зраком цвета кетовой икры и, казалось, ждал от него последнего слова.
— На-кось ты,— Евдоха поддала петуха бедром.— Мужицкое это дело. А то запыхалась, загонял он меня, скаженный, аж руки трясутся…
— Полно тебе! — вскинул обе руки Петрован, не сходя с крыльца, боясь, что ежели сойдет долу, то настырная Евдоха уговорит сечь петуху голову.— Ничего не надо! Никакой лапши! Я заскочил только показать Герасиму медальку. Должны бы дать ему, а вот, вишь, выдали мне. Ошибка вышла… Так что брось, брось, отпусти петуха.
— Дак ить праздник! Ваш, ветеранский! — продолжала тяжко дышать Евдоха.— Положено. Рази я б за ним зазря бегала б, сердце не дает ходу… По радиву, небось, одни марши…
— Оно верно,— согласно кивнул Петрован и оглядел сплошь синее небо.— Ноне, поди, на Красной площади парад был. Войска в золотых поясах, музыка в тыщу труб… Праздник! Но ты, Евдокия, погляди только: петух ить сам тоже праздник. Душа ликует на него глядеть. Ты только посмотри, какая красота! Это как же природа придумала такое?..
Евдоха с сомнением покосилась на кочета: верно ли красавец?
— А стать-то какая! Как держится, как глядит! Прямо маршал. Вылитый Георгий Константиныч! А ты его секачом хочешь… Какой же после того праздник? Да никакая лапша в рот не полезет…
— А подь ты!..— отшвырнула секач Евдоха.— Хотела, как лучше…
Она отпустила кочета, и тот, ступив на землю, не побежал стремглав, а, встряхнув свой строгий боевой мундир и как бы осуждающе покосившись на широкую лёзгу капустного рубила, направился к пряслам твердой размеренной поступью.
— Все! Отговорил! — возвратился довольный Петрован.— Какая к ляду лапша? И так закуску ставить некуда. Давай, служивый, под яишанку, а то, поди, вовсе остыла.
— Не-е, друг мой. Я — баста. Хватит,— отрицательно повел носом Герасим.— Пришел мой предел.
— Нескладно как-то получается…— поскреб за ухом Петрован.
— То-то же: хвороба придет, дак ноги сведет, а руки заедин свяжет… Весь тебе и склад…
— А ежли короткими перебежками? По чуть-чуть и опять за кочку?
— Нет, братка, ты беги один, ежели охота, а я с тобой не побежчик…
— Один — и я ни с места,— погрустнел Петрован и отставил от себя рюмку.— Одному — совестно как-то. Будто середь бела дня крадешь. А с другом — завсегда пожалуйста. И то, чтоб не молчаком. А, Герась? Слышь? Ну, хоть сколько осилишь…
— Эт какой! — заскрипел койкой Герасим.— Взаправду — «броня крепка»… Ему так, а он тебе — этак.
— Дак за Победу же! — Петрован сызнова приподнял свою стопку.— Святое дело! Глядишь, оно и полегчает. Вот в районе мужики говорили, будто нынче на небе новая звезда должна объявиться. Этой вот ночью, которая придет. Из трех мест будет видать: с Невыреки, с поля Куликова, а еще — с Волги… с южных ее мест… Ты там тоже бывал… И получается святая троица: Александр Невской, Дмитрий Донской и… Георгий Жуков… Больше некому с Волги быть… А ты противишься, не хочешь…
— Тади давай…— опять заскрипел, привставая, Герасим.— Токмо я палец обмакну да пососу… Небось там засчитается… Мое причастие…
Так и сделали: Герасим, немощно изловчась, омочил заскорузлый мизинец в своей долгой рюмке и, высунув сивый обложенный язык, подождал так раззявленно, пока с конца пальца сронится золотистая капля с острым лучиком нисходившего дня, тогда как Петрован, будто и взаправду под ракетными всполохами, поспешно, не пригибаясь, единым махом осушил свой припас.
— Как гвоздь заколотил! — похвалил он себя и с бодрецой испробовал голос, протянул речитативом: «Хороша ты, степ,— степ раздольная, степ стрелецкая, ой да молодецка-а-йя!» А то еще была «кубанская» — четыре двенадцать стоила. Тоже хорошая, но эта, кажись, получше.
Уважительно приподняв почти порожнюю посудинку, Петрован сощурился на яркую картинку с бравым казаком в папахе, уронившей красное обвершье на его правое плечо, и спросил как бы у стрелецкого казака:
— Дак чего? Будешь ли про мою войну слушать? Али утомил я тебя совсем?
— Да говори че-нибудь…— отозвался за казака Герасим.— Говори, а я поотдыхаю…
— Ну, тогда доскажу…— Петрован уважительно поставил бутылку на место.— Мой сказ недолог. Это ежли б ты про свою войну порассказывал, как аж до самого Гитлера дошел, то, поди, и в неделю не управился б… А я што: трах-бабах — и в дамках. Ну, стало быть, устроил нам немец лесную баню. Прибегаем, а ельник вокруг поляны горит, аж стволы ахают, серый хвойный пепел дыхание застит, сама поляна парной землей закидана… Давай на уцелевших танках ближние дерева валять, подальше оттаскивать. Нашу безмоторную машину да еще которую без ленивца на тросах тоже в затишок оттащили. А те три, что уже горели, пытались снегом закидать, да куда там… Потом всю ночь бронелисты искали да на полураздетые танки прилаживали. А ведь нам завтра с рассветом — в наступление, в разведку боем! Сам командующий, когда смотрел батальон, вручил такой приказ командиру боевой группы, к которой мы были придадены. Курочкин отбыл в полной уверенности, что танкисты после баньки и стограммошничка этак завтра навалятся на неждавшего врага, а оно вишь как получилось: восемь единиц, которые в дороге поломались, так и не дошли до нашей передовой. Дохлое дело — на ходу ломаться: запчасти в лесу не валяются, на деревьях не растут. Каждую бубочку добыть надо, похлопотать, пообивать пороги помпотехов. Да и кто этак вот сразу даст тебе — чужому, ничейному экипажу? А ежели и починят, то больше не отпустят, себе заберут. Потому как танки всем позарез нужны. Так что этих восьмерых ждать было нечего, тем паче — наступало распутье, когда по тверским заволочьям {93} не то что тридцатитонный танк, а никакая собака не проскочит. А из тех девяти штук, которые добрались-таки до места, пятеро втемеже и вышли из строя: двести вторая и двести сёмая выгорели дотла, у двести пятой — своротило башню, а у десятки Ежикова порвало гусеницу, срубило правый ленивец. Наша двести шестая, на ту пору безмоторная, тоже оказалась не на ходу. Но командир боевой группы не стал вычеркивать нас из списка живых, а велел отбуксировать на исходную позицию для огневой поддержки разведотряда. Хотя какая к ляду поддержка — у нас в танке оказалось всего шесть снарядов. Обещали доэкипировать по прибытии, да с боепитанием тоже вышел затык.